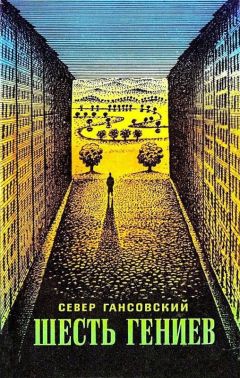Вот только что вышел на экраны «Круглянский мост» — фильм по одной из первых повестей Василя Быкова, путь которой к читателю, как, впрочем, и почти всех других его произведений, был нелегок и не скор. Не случайно ведь повести Быкова называли и продолжают называть «трудными». В прошлом, конечно, трудностей было неизмеримо больше, но и теперь все еще остается немало людей, и весьма влиятельных, которым жесткая, жестокая быковская правда о минувшей войне очень не нравится.
Горы бумаги были сложены в свое время в баррикады ругательных статей придворных критиков, объявивших решительный бой «окопной правде», принесенной в художественную литературу мучениками и творцами победы, вчерашними безвестными лейтенантами, ставшими вдруг писателями, о которых заговорил весь читающий мир.
Рожденный теми критиками в шумной дискуссии о «Пяди земли» Г. Бакланова термин «окопная правда» стал для молодых тогда литераторов новой волны клеймом, едва ли не столь же опасным, как обвинение в «безродном космополитизме», которым за несколько лет до этого сверхбдительные ультрапатриоты крушили судьбы многих деятелей науки и культуры нашей страны.
В чем только не упрекали молодых писателей, сказавших подлинную правду о прошедшей войне! В голом натурализме и антипатриотизме, в бездумном опасном привнесении на русскую землю «чуждого нам духа Ремарка и Хемингуэя», в принижении величия нашей Победы, в клевете на Советскую Армию и на советского человека в целом. Их обвиняли чуть ли не в антисоветизме и умышленном подрыве устоев советского образа жизни. Не говоря уж, конечно, о том, что творчество «окопников» объявлялось не соответствующим принципам социалистического реализма.
«Соответствующим» и образцом для подражания провозглашались произведения в духе марша «Гром победы раздавайся…» — осовремененные варианты описания подвигов знаменитого Козьмы Крючкова, нанизывавшего якобы в первую мировую войну на свою пику сразу чуть ли не семерых врагов. Подвиги «чудо-богатырей» современности становились под пером особо рьяных мастеров соцреализма еще более чудесными благодаря верховному водительству «вождя всех народов» и «величайшего полководца всех времен».
После окончания Великой Отечественной Сталин не прожил и десяти лет, но сталинщина и особенно сталинисты пережили его на десятилетия. Во всех областях нашей жизни, в том числе и в литературе, где и по сей день немало писателей и критиков, склонных изображать минувшую войну с удивительной легкостью торжества русского оружия и прозорливостью сталинского военного гения. Все в их сочинениях и устных рассказах о Великой Отечественной так светло и просто, что бывший «окопник», пехотинец, прошедший войну «от звонка до звонка» и ставший впоследствии одним из самых совестливых наших писателей, Виктор Астафьев с удивлением и горечью сказал, что, читая и слушая все это, он думал, что сам он и его фронтовые друзья были в те годы, вероятно, на какой-то совсем другой войне.
Быковская правда о войне изначально не нравилась многим. Не нравится она многим и по сей день. Лишь через восемнадцать лет после первой журнальной публикации смогла выйти отдельной книгой одна из сильнейших его повестей «Атака с ходу». То же было и с повестью «Мертвым не больно». По непонятным причинам не попали эти повести и в четырехтомник писателя, вышедший уже в период перестройки и гласности в 1986 году.
Даже с повестью «Знак беды», удостоенной впоследствии Ленинской премии, у Быкова было при ее издании столько трудностей, что для рассказа об этом, ему, как он сказал журналистам, потребовалось бы исписать бумаги не меньше, чем при создании самой повести.
Иное время ныне на дворе. Быков — лауреат самых престижных литературных премий, Герой Социалистического Труда, народный депутат СССР, народный писатель Белоруссии. Будем надеяться, что все это вместе с обвалом гласности, обнажившей тщательно скрывавшиеся дотоле потаенные, мрачные пласты нашей действительности, в том числе и военных лет, освободило наконец быковские повести от многолетней трудности прохождения в печать.
Другая же, непреходящая «трудность» осталась и останется с Василем Быковым, вероятно, навсегда. Его книги, прошлых лет и те, что продолжают выходить сегодня, — далеко не легкое чтение. Они требуют от читателя эмоционального, психологического, морально-нравственного и интеллектуального напряжения. Эти книги, вероятно, и не могут быть иными уже по самой природе становления их автора как писателя. Ведь Быков начал писать по собственному признанию «со злости»» на тех литераторов, которые изображали величайшую военную трагедию нашего народа гладко и красиво, так, чтобы читателю было легко и приятно и победно-радостно, как при исполнении теперь, правда, уж мало кому известного того же марша про «гром победы», где далее слова: «веселися, славный росс…»
Василь Быков, как Г. Бакланов, В. Кондратьев, К. Воробьев, пришли в литературу, чтобы до определенной степени «испортить песню» придворных сладкопевцев. Не то, чтобы они намеренно принесли свои ложки дегтя, но, в общем-то, их правда о той, «другой», не парадной войне, она, как трудно переносимое, но неизбежное лекарство, горька до боли. А сила таланта, если он — настоящий, такова, что его рассказ о боли народа каждый читатель почти физически ощущает как свою собственную боль.
«Я не считаю себя апостолом добра и справедливости, — говорил Василь Быков, — однако, прожив на свете шесть десятков лет, думаю, что кое-что повидал в жизни, кое-что понял. Свое понимание жизни, которое вытекает преимущественно из моего личного опыта, я и хочу донести до людей с одной-единственной целью; чтобы им легче было понять себя, свое прошлое, а возможно, и будущее».
И еще, помнится, говорил о себе Быков: «Я — представитель убитого поколения». Говорил потому, что из каждых ста ушедших на войну его сверстников 1924 года рождения вернулись домой только трое. Но прежде, чем испить до дна страшную чашу всенародного горя Великой Отечественной, то поколение успело хлебнуть страданий начавшейся в тридцатом году и достигшей своей кульминации в тридцать седьмом сталинской войны с народом.
«Детство свое не люблю, — признавался Василь Быков. — Голодная жизнь, когда надо идти в школу, а нечего поесть и надеть. Единственно, что было отрадой, — это природа и книги. Если позволяло время. Ведь надо было работать. И надо, да и заставляли…» Ту «другую правду» о коллективизации, которую мы прочли недавно в быковской повести «Знак беды», юный Василь видел, пережил, выстрадал сам в родной бедняцкой деревне Бычки Витебской области. Не выдумана описанная им в повести та страшная ночь, когда замордованным, насмерть запуганным крестьянам приходится по разнарядке сверху во что бы то ни стало выбрать из одинаково бедняцких семей одну для раскулачивания.
Помнит Василь, как подчистую забирали у крестьян хлеб, обрекая на голод и разорение. Как разбивали мельничные жернова, чтоб не было у крестьян искушения припрятать зерна на прокорм детей. Отец Быкова по ночам собирал осколки мельничного камня, стягивал железными обручами, молол под страхом смерти немного припрятанного зерна. Ровно столько, чтоб не умерли от голода дети, а на рассвете разрезал железо и вновь аккуратно укладывал осколки жерновов в то же самое место в крапиву. Так, чтобы специальные контролеры, которым было поручено наблюдать за разбитостью жерновов, могли докладывать в центр, что отступлений в политике на хлебном фронте не происходит.
Помимо книг с того времени, как он себя помнит, влекло к себе юного Быкова волшебство рисования. Он мечтал стать художником и, закончив школу, поступил в Витебское художественное училище. Но не то, чтоб закончить, но даже хотя бы немного поучиться там ему не удалось. Грянула война, мобилизация, и после донельзя сокращенного курса обучения в училище пехотных командиров Василь Быков попал на фронт. Его первый бой, как и у многих тогда новобранцев, был страшен. «У меня и сейчас стоит перед глазами, — вспоминал Быков, — большое свекольное поле, село в отдалении. Мы видели только крыши, утопавшие в садах. Там был противник. На поле лихо развернулась для атаки спешно переброшенная сюда кавалерийская часть. Судя по всему, она была издалека. Всадники были запылены и экипированы по-походному: с пулеметными сумами у седел, винтовками и шашками, средствами противохимической защиты для себя и лошадей.
Высыпав из балки, они пустили коней в галоп. Мы, сотня наспех вооруженных винтовками новобранцев, прикрывали их фланг. Несколько минут было тихо, а потом навстречу кавалеристам ударили фашистские пулеметы, танковые пушки. Дело довершили внезапно появившиеся «юнкерсы».
Из деталей этого боя больше всего почему-то запомнилась одна — толстые гофрированные трубки лошадиных противогазов. Вот уж больше сорока лет прошло, а я никак не могу забыть эти противогазы…»
![Василь Быков - «Подвиг», 1989 № 05 [Антология]](https://cdn.my-library.info/books/143757/143757.jpg)